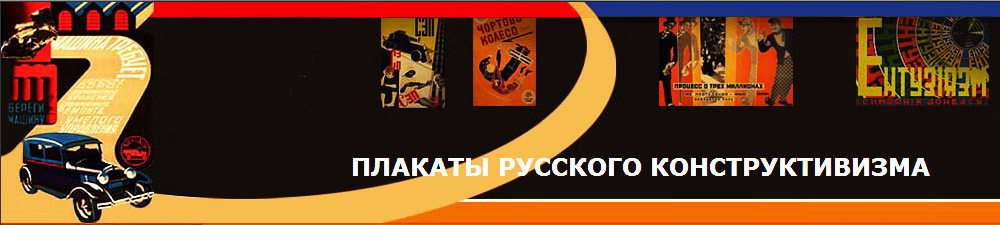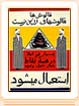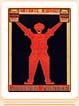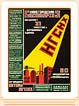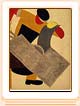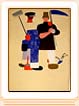- Е. В. Бархатова. Плакаты русского конструктивизма 1920-х - 1930-х годов
- Каталог выставки в г. Шомон
- Каталог выставки в г. Жуанвиль
Русский конструктивизм 1920-х - 1930-х годов
Е. В. Бархатова
Среди преподавателей ВХУТЕМАСа одной из наиболее активных фигур был
Родченко, который вместе с Ганом стал в 1922 г. сотрудничать и в новом журнале "Кино-фот" (1922-1923) — журнале кинематографии и фотографии. На его страницах провозглашался знак равенства "между кино и ХХ веком" и утверждалось, что "кино — это торжество машины, электричества и индустрии".6 На страницах именно этого журнала появились первые фото- и типографские монтажи Родченко, ставшие важным компонентом в эстетике конструктивистов. В "Кино-фоте" была опубликована и программная статья "Печатный материал для критики, смонтированный конструктивистом Родченко". Она органично влилась в общий поток новаторских деклараций кинематографистов — Дзиги Вертова и Льва Кулешова, печатавшихся в "Кино-фоте", ибо пропагандируемый Родченко фото и типо-монтаж был генетически связан с монтажной природой кино. Указывая на истоки новой изобразительности, Родченко в статье упомянул наклейки в живописных работах Пабло Пикассо, созданные еще до Первой мировой войны, а также на использование "неживописных" типографских элементов дадаистами после войны. Однако он видел серьезную разницу в употреблении этого "материала индустриальной эпохи" между собой и западными мастерами, настаивая на преимущественном идеологическом звучании собственных "монтажных" работ. В 1923 г. Родченко очень активно использовал их выразительные возможности — в иллюстрировании поэмы Маяковского "Про это", в композиции журнальных обложек ("Огонек") и реклам ("Красная нива"). Это позволило ему утверждать в статье "Конструктивисты", опубликованной в 1923 г. в новом журнале "ЛЕФ" (1923-1925): "Введен новый способ иллюстрации путем монтировки печатного и фотографического материала на определенную тему, что по богатству материала делает бессмысленной всякую "художественно-графическую иллюстрацию".7
"ЛЕФ" стал громким рупором идей "производственного искусства", ареной бурной полемики. В нем же публиковались и разнообразные новаторские проекты конструктивистов, например, кино-автомобилей Родченко, радио-трибуны Густава Клуциса, спорт-одежды и тканей Варвары Степановой а также план города будущего или схема дома-квартала Антона Лавинского, театральные декорации Поповой. Родченко, Лавинский, Сергей Сенькин опубликовали в "ЛЕФЕ" и плакаты, которым теоретики конструктивизма отводили особую и очень важную роль. Плакат сознательно противопоставлялся станковому творчеству, живописи, объявленной принадлежностью свергнутого буржуазного общества. В "саженных рожах" плакатов коренятся "зародыши обновления", которые необходимы для новых форм искусства, идущих от "культуры индустриализма, от культуры производства", — утверждали многие теоретики.8 Один из них, Тарабукин, рассматривал плакат как "наиболее выразительную форму изобретательности и мастерства" и считал, что "роль мастера-плакатиста вполне адекватна роли инженера-конструктора".9
В плакатах "ЛЕФА" (1924, №1(5)), выполненных для рекламы изделий Резинотреста — детских сосок и мячиков — его авторы — Родченко и Маяковский выступили действительно подлинными изобретателями, отказавшись от привычного фигуративного языка и сконструировав, например, традиционный образ ребенка с помощью простейших геометризированных элементов.Для рекламы другого товара Резинотреста — галош, они также использовали весьма схематизированные фронтальные фигуры восточных людей, которые поддерживают треугольник с галошами (№30).
Достаточно условную фигуру рабочего в ярком красном комбинезоне, резко выделяющуюся на черном фоне, Родченко и Маяковский сконструировали и для другого листа с рекламой журнала "Молодая гвардия" (№31). Создавая совершенно новые по стилистике плакаты, конструктивисты и их последователи отказывались от традиционной образности и часто придумывали сугубо геометризованные композиции, целиком построенные на контрастах шрифта, разномасштабных буквенных гарнитур, полиграфических планок и линеек, рисунок которых оттенялся контрастом цветовых плоскостей ("Экспорт-импорт" А. Лавинского (№23); "НГСХ" В. Роскина (№61); "ВСНХ" неизвестного автора (№35).
Однако во всех этих листах присутствовали пусть схематизированные, но узнаваемые изображения заводских корпусов, железнодорожных вагонов, портовых кранов — культ "машинерии" был важной эстетической установкой конструктивистов. Следует подчеркнуть, что многие из сторонников "производственного искусства" уже имели опыт работы в плакате — например, редактор "ЛЕФА" Маяковский обратился к этому жанру еще в период Первой мировой войны (1914-1918), вместе с Аристархом Лентуловым, Казимиром Малевичем создавая пропагандистские листы для артели "Сегодняшний лубок". В период Гражданской войны (1918-1922) Маяковский стал одним из организаторов московских "Окон РОСТА" — плакатов, выпускаемых Российским Телеграфным агентством, которые расклеивались на улицах, часто вывешивались в окнах пустующих магазинов (отсюда их название). В "Окнах РОСТА" сформировалась яркая индивидуальная манера Маяковского, отличавшаяся динамизмом, экспрессией, необычной остротой соединения слова и изображения. А среди создателей петроградских "Окон РОСТА" выделялся Владимир Лебедев, который создавал очень лаконичные по форме, емкие по смыслу и актуальные по содержанию образы ("Резка железа" (№25), "Союз рабочего и крестьянина" (№26). "Окна РОСТА" выпускались во многих городах, например, для Смоленска работал ученик Малевича Владислав Стржеминский в листе которого "Красная армия героически сражается на фронте" (№66) присутствует яркая супрематическая композиция. Для фронта был выполнен в Витебске и знаменитый плакат Лазаря Лисицкого "Клином красным бей белых" (1920), ставший одной из самых выразительных формул "утвердителей нового искусства".
"Окна РОСТА" были широко представлены на экспозиции "Плакат за 6 лет", которая была организована в феврале 1924 г. в Москве в Историческом музее.
Устроители выставки осознавали необходимость существования русского плаката в контексте мирового художественного опыта. И поэтому они сопоставили работы русских мастеров с европейскими образцами, которые были разделены на два отдела. В "иностранно-политическом" демонстрировались агитационные листы западных коммунистических и социал-демократических партий, а в "показательно-техническом" представлены все остальные, разнообразные по тематике плакаты из Англии, Германии, Италии и Австрии.
Главной же целью выставки было желание показать, что именно октябрьская революция 1917 г. впервые в мире заставила плакат активно служить обществу. Эта экспозиция положила начало утверждению революционного, т.е. политические ориентированного плаката в качестве основного фундамента для становления новой советской графики.
Эту же цель преследовала и вышедшая в 1925 г. фундаментальная для того времени книга "Русский революционный плакат", автор которой утверждал: "Не картины, развешенные по музеям, не книжные иллюстрации, ходящие по рукам любителей, не фрески, доступные обозрению немногих, но плакат и "лубок" — миллионный, массовый, уличный — приблизит искусство к народу, заинтересует своим мастерством и развяжет нерастраченные запасы художественных возможностей".10