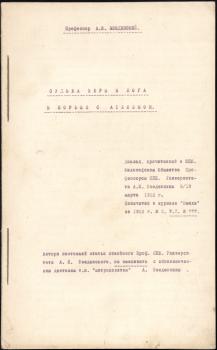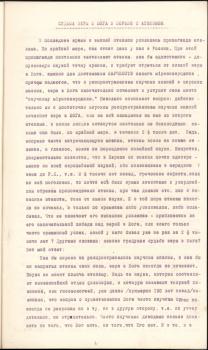Патриарх Тихон и его эпоха в документах Отдела рукописей Российской национальной библиотеки: к 100-летию кончины святителя
Обновленческий раскол
Н. В. Гольцов
Одним из громких явлений церковной жизни начала 1920-х гг. стал так называемый обновленческий раскол, возникший в 1922 г. во время кампании по изъятию церковных ценностей. Своим появлением и дальнейшим распространением обновленческое движение было обязано главным образом советской власти. Еще в марте 1922 г. Л. Д. Троцкий предложил оказать поддержку «сменовеховским попам» — духовенству, поддерживающему советскую власть и обличающему церковных иерархов, и таким образом внести раскол в церковную среду1. Эта идея была окончательно реализована в мае 1922 г., когда группа священнослужителей при поддержке ОГПУ предприняла попытку захватить высшую церковную власть, устранив от нее патриарха. Так в жизнь Русской церкви вошел раскол, устранение которого стало одной из важных задач святителя Тихона.
В фонде известного литургиста Алексея Афанасьевича Дмитриевского в собрании Отдела рукописей Российской национальной библиотеки хранится любопытный визуальный источник по истории обновленчества: небольшой (28,3×37,3 см.) акварельный рисунок неизвестного художника, атрибутированный в описи как «Изъятие церковных ценностей в Астрахани»2. Действительно, в период проведения кампании ученый преподавал в Астраханском университете и, оказав протест изъятию предметов, представляющих культурную ценность, даже оказался под следствием. Впрочем, едва ли художник стремился изобразить события, происходившие в каком-то конкретном городе.
Данный рисунок интересен прежде всего тем, что он отражает восприятие деятелей обновленчества значительной частью их современников. Иными словами, в нем визуализирован образ обновленцев, сложившийся в народном сознании в период кампании по изъятию церковных ценностей. Карикатурность изображения только усиливает те специфические черты, которые верующие видели в деятелях раскола. Попробуем всмотреться в рисунок и увидеть их.Внимание зрителя привлекает прежде всего центральная фигура композиции — фигура обновленческого «епископа». Красный цвет его облачения, равно как и цвета облачений других обновленцев, неслучаен. Как известно, в традиционной символике православного богослужения этот цвет связан прежде всего с праздником Пасхи и днями памяти мучеников. Однако в данном случае он приобретает новую, совсем иную, смысловую нагрузку. Красный цвет, в который народная молва «окрашивала» обновленцев, отражал их очевидную тесную связь с советской властью. Неслучайно «митрополит» Александр Введенский, один из лидеров и идеологов движения, был вынужден затронуть эту проблему в одном из своих докладов.
«Обычно, в обновленческом движении, — заявлял он, — прощупывают только его верхние слови. Прежде всего, обывателю бросается в глаза его внешняя окраска, его политическая ориентация. В массы пролилась кличка “Красная Церковь”. Этому наименованию контрреволюционные круги придают одиозный, сугубо одиозный характер. Конечно, одиозность вообще вещь не особенно доброкачественная. Одиозная интерпретация клички “Красная Церковь” — есть вещь не желательная и, по существу, неверная. Вот почему мы энергично протестуем, когда нас нарочно, одиозно, именуют красными. Но в то же самое время мы не боимся слова. И само слово “красный” нам, у которых политическое сердце вовсе не струит белую кровью, не представляется страшным. Как выразился однажды митрополит Серафим Руженцев, — “красный цвет — пасхальный цвет”. Словом, “красный цвет” — в этом нет ничего страшного. Конечно, если в этом хотят видеть наше пресмыкательство перед властью, о… тогда мы протестуем»3.
Однако именно последнее — то, против чего так «протестовал» обновленческий митрополит, — было главным смысловым содержанием выражений «Красная Церковь» и «красные попы», которые получили широкое распространение в народной среде. Неслучайно один из оппонентов Введенского заявлял ему: «Вы не отказались от политики, а переменили политику. Спросите любую из наших женщин, кто вы такие. Она вам ответит кратко: красные попы»4. Политическую подоплеку этого наименование неизвестный художник подчеркивает рядом деталей, дополняющих традиционные элементы архиерейского облачения.
Так, митра — головной убор архиерея — вместо креста увенчана красной звездой, а на ее поверхности вместо привычных икон красуется надпись «РСФСР» (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика). Политические символы украшают и другие предметы богослужебного облачения епископа. Палица — матерчатый плат ромбовидной формы, носящийся архиереем на правом бедре (на рисунке изображен на левом), — вместо традиционных изображений креста, Воскресения Христова или Святой Троицы, содержит изображение серпа и молота — символа союза трудящихся рабочих и крестьян, ставшего частью герба РСФСР. Взамен трикирия — особого подсвечника из трех свечей, используемого архиереем при богослужении, — художник вложил в руку обновленческого епископа вилы с тремя зубцами, два из которых увенчаны красными звездами, а третий, центральный, — развивающимся знаменем с надписью «Пролетарии да воссоединятся» (церковной стилизацией известного коммунистического лозунга). На спинах обновленческих священников, сопровождающих епископа, также размещена советская символика в виде красной звезды. Композиция рисунка выстроена таким образом, что обновленцы помещены между двумя противопоставленными друг другу группами. Позади них — православный храм, в котором, по всей видимости, только что произвели изъятие церковных ценностей, и сокрушающиеся по этому поводу верующие и духовенство. Впереди обновленцев — отъезжающие вагоны, загруженные изъятыми ценностями, в которые они спешат запрыгнуть. Обращает на себя внимание еще одна примечательная деталь — «кукиш», обращенный из окна поезда в сторону храма и народа. Этот жест также не случаен: он иллюстрирует предубеждение, сложившиеся в народных массах в период кампании по изъятию церковных ценностей, о том, что изъятые святыни пойдут не на помощь голодающим, как заявлялось в декрете, а на иные цели. Какие же именно? На этот счет существовал целый спектр мнений, зафиксированных в информационных сводках ГПУ: начиная с того, что «ценности пойдут на золотые зубы коммунистам»5 и заканчивая тем, что большевики употребят их на свое бегство за границу6. Вполне возможно, что последний слух как раз и был проиллюстрирован автором рисунка. Как бы то ни было, изображенный им жест довольно точно передает взгляд многих современников на истинные цели кампании по изъятию церковных ценностей, отраженный во множестве письменных источников.Вместе с тем, динамичность всего изображения, усиливающаяся от его правой к левой части, как бы оставляет открытым вопрос о том, успеют ли обновленцы запрыгнуть в отчаливающий поезд с надписью «РСФСР», возьмут ли их с собой? Опубликованные еще в начале 1990–х гг. документы демонстрируют прагматичное отношение большевиков к обновленческому духовенству, которое рассматривалось ими в качестве «опаснейшего врага завтрашнего дня», разделаться с которым предстояло в будущем: после того, как с его помощью будет произведен разгром «тихоновской» церкви7. Все теми же прагматичными причинам был вызван и дальнейший отказ власти от поддержки обновленческих структур. Таким образом, история дала отрицательный ответ на данный вопрос. Однако только в 1946 г., после смерти «митрополита» А. И. Введенского, обновленчество фактически прекратило свое существование.
В связи с именем не раз упомянутого обновленческого «митрополита» А. И. Введенского стоит сказать еще об одном любопытном памятнике эпохи: докладе его полного тезки, профессора Петроградского университета А. И. Введенского «Судьба веры в Бога в борьбе с атеизмом», прочитанного 19 марта 1922 г. в Петербургском философском обществе. Помимо того, что этот доклад был напечатан в журнале «Мысль»8, он получил распространение в виде машинописных экземпляров, один из которых сохранился в личном фонде А. А. Дмитриевского в собрании Отдела рукописей Российской национальной библиотеки9.
Стоит отметить, что до начала служения в священном сане будущий обновленческий «митрополит» учился на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета, где преподавал его полный тезка — профессор Александр Иванович Введенский. Историк А. Э. Красно-Левитин повествует о курьезе, произошедшем на этой почве. Студент Введенский, решив «выяснить причины неверия русской интеллигенции», опубликовал в одной из газет обращение к представителям интеллектуального труда с просьбой заполнить и прислать ему прилагаемую анкету. На эту просьбу откликнулись тысячи людей, посчитав, что они имеют дело с прославленным профессором, и лишь потом выяснилось, что инициатором анкетирования был никому не известный студент. «Посыпались обвинения в мистификации, так что молодому человеку пришлось выступить с печатным заявлением, что он не виноват в том, что другие носят его фамилию, имя и отчество»10 — отмечает биограф обновленческого «митрополита».Машинописный экземпляр доклада профессора А. И. Введенского «Судьба веры в Бога в борьбе с атеизмом», отложившийся в личном фонде А. А. Дмитриевского, был создан спустя весьма продолжительное время после описанного курьеза, когда в церковных кругах имя полного тезки профессора оказалось скомпрометировано участием в обновленческом расколе. Это обстоятельство заставило переписчика доклада профессора снабдить текст весьма показательной припиской: «Автора настоящей статьи покойного Проф[ессора] СПБ. Университета А. И. Введенского не смешивать с обновленческим деятелем т[ак] н[азываемым] “митрополитом” А. Введенским»11.

![Неизвестный художник. [Изъятие церковных ценностей в Астрахани]. Неизвестный художник. [Изъятие церковных ценностей в Астрахани].](/ve/dep/artupload/ve/article/RA9758/s_NA100385.jpg)
![Неизвестный художник. [Изъятие церковных ценностей в Астрахани]. [1922–1923 гг.]. Неизвестный художник. [Изъятие церковных ценностей в Астрахани]. [1922–1923 гг.].](/ve/dep/artupload/ve/article/RA9758/s_NA100386.jpg)
![Неизвестный художник. [Изъятие церковных ценностей в Астрахани]. [1922–1923 гг.]. Неизвестный художник. [Изъятие церковных ценностей в Астрахани]. [1922–1923 гг.].](/ve/dep/artupload/ve/article/RA9758/s_NA100387.jpg)
![Неизвестный художник. [Изъятие церковных ценностей в Астрахани]. [1922–1923 гг.]. Неизвестный художник. [Изъятие церковных ценностей в Астрахани]. [1922–1923 гг.].](/ve/dep/artupload/ve/article/RA9758/s_NA100388.jpg)