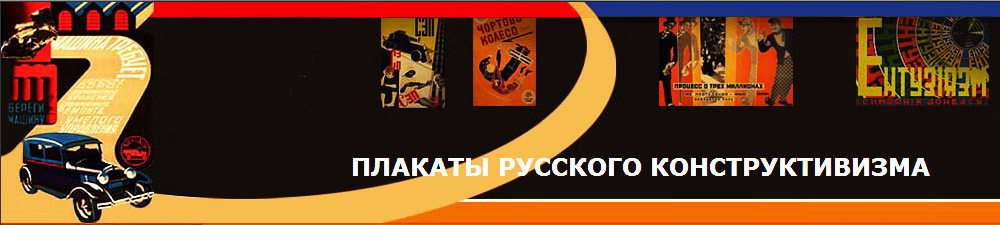- Е. В. Бархатова. Плакаты русского конструктивизма 1920-х - 1930-х годов
- Каталог выставки в г. Шомон
- Каталог выставки в г. Жуанвиль
Русский конструктивизм 1920-х - 1930-х годов
Е. В. Бархатова
Однако они активно защищали фотомонтаж, отстаивая прежде всего значение "правды документа", которым, конечно же, являлась хроникальная фотография. Создавая, например, в 1926 г. "Историю Этот плакат был создан в 1925 г., который считался поворотным в развитии советского кинематографа: существенно укрепилась его материальная база. В городах резко выросло количество кинотеатров и клубов с экраном, выросло число передвижных аппаратов для показа фильмов в деревнях. Монополию проката иностранных фильмов получило объединение "Совкино", при котором под руководством Якова Руклевского был создан специальный отдел рекламы. Он начал выпускать огромное число плакатов для русских и иностранных фильмов. В том же 1925 г. состоялась и Первая выставка советского киноплаката, организованная в Москве Государственной Академией художественных наук (ГАХН). На этой экспозиции русские плакаты соседствовали с листами из Франции, Англии, Швеции, Италии и Германии. Были представлены и дореволюционные русские киноплакаты — это был настоящий, полноценный смотр данного вида графического искусства.
В связи с этой выставкой Малевич обнародовал итоги опытов по созданию киноплакатов, которые проводились в руководимом им в 1925-1926 гг. Ленинградском Государственном Институте художественной культуры (куда влился и Декоративный институт). В результате лабораторных, научных опытов по исследованию "выявителей" — плакатов с рекламой кинофильмов, он пришел к следующему основному выводу: плакаты не могут быть построены "ни по сезанновскому, ни по кубистическому, футуристическому или конструктивистическому принципам… не могут быть и передвижнического характера. От всех этих направлений могут быть взяты только элементы и принципы".22
Научно-экспериментальный подход к изучению природы киноплаката, который Малевич называл "отрывками бегущего на экране содержания в том или другом крошеве статического художественного оформления", был закономерен для общего лабораторного характера творчества этого мастера и находился в русле европейской традиции 1920-х гг., связанной с исследованиями рекламного плаката и шире — рекламного дела.
Однако очень многих рецензентов первой киновыставки 1925 г. волновали совсем другие проблемы, которые ярче других обозначил критик журнала "Советский экран": "В наших условиях колоссальной бедности, когда каждое печатное слово расценивается на вес золота стомиллионным населением страны, как-то не мыслится даже вести праздные споры о том, какой плакат нам нужен: супрематический, или конструктивный, или импрессионистический".23
В подобном замечании, несомненно, находит отражение реальная сторона жизни в России того времени — недаром в одном из киножурналов 1925 г. сообщалось, что плотные большеформатные литографские плакаты в Москве систематически похищают беспризорники, используя их в качестве одеял. Однако другой чертой реальной жизни России было появление в деревне киноустановок, и тот же критик делал своеобразный "социальный заказ", призывая художников создавать лубочно-яркий плакат для сельского населения.
Конструктивисты с этим были решительно не согласны, о чем заявили на организованном в апреле 1925 г. диспуте "Наше киноплакатное искусство и чего мы хотим в нем добиваться". Наряду с конструктивистами Маяковским, Родченко, Бриком, Ганом в нем приняли участие представители многих других течений и объединений Москвы, обсуждая не только специфические задачи жанра, но и более широкие проблемы, касающиеся смысла создания киноплаката, целей его функционирования в обществе.
Характерно, что именно в киноплакате в середине 1920-х гг. велись серьезные поиски образной и формальной структуры плакатного языка, т.к. на него оказывали сильное влияние процессы, происходившие в это время в самом новаторском кинематографе. В нем бурно развивались, например, идеи "киноков", которые стремились снимать "жизнь врасплох" и отстаивали принцип "социального зрения". Дз. Вертов в "Киноправде" разрабатывал интересные методы хроникальной съемки. Огромное влияние получила теория Льва Кулешова о киномонтаже — недаром в одном из первых советских киносправочников указывалось, что "острое монтажное построение картины" является основой революционного изменения кинематографа, ранее, до революции изображавшего "примитивными приемами…страстишки отдельного человека-мещанина".24
Аналогичным образом раскрывается и сущность метаморфозы, происшедшей с киноплакатом, в каталоге следующей, Второй выставки, которая состоялась в 1926 г. в Москве, в фойе Камерного театра Александра Таирова. Его автор писал, что современный плакат "развивает такую конструктивность и динамику, которые головой вниз ставят обывательские "томления", типичные для дореволюционного плаката".25
Наиболее удачным экспонатом выставки был признан плакат лефовца Лавинского к фильму "Броненосец Потемкин". Как отмечали критики, его создатель — режиссер Сергей Эйзенштейн сумел заставить "действовать не только людей, но и части броненосца, дула орудий".26. Их выразительно и эффектно использовали и в композиции двух других плакатов с рекламой этого великого фильма, которые выполнили конструктивисты Родченко (№81) и братья Стенберги (№86).
Динамичные сопоставления нескольких разнородных элементов, отличающихся друг от друга фрагментов и эпизодов, столкновение персонажей, контрасты ритмов и масштабов — все это было характерно для фильмов 1920-х гг. и не могло не оказывать влияние на язык киноплаката, который развивался практически одновременно с самим новаторским кинематографом того времени.
Среди наиболее интересных экспонатов Второй выставки 1926 г. критика единодушно признавала и работы братьев Стенбергов. В их творчестве органично сочетался агитационный накал политического плаката и праздничная декоративность театра (в 1920-е гг. они успешно работали в Камерном театре), теоретические установки конструктивизма и точное проникновение в особенности образного киноязыка. В их изобретательных композициях использовались разнообразные точки зрения, необычные ракурсы, крупные планы, прямая и обратная перспективы, что не только рождало новый, острый и выразительный язык плаката, но и точно передавало мысль режиссера или характер операторского мастерства. Стремясь работать в системе популярного у конструктивистов фотомонтажа, Стенберги ввиду отсутствия необходимой фотоаппаратуры, бумаги и т.п. вынуждены были имитировать иллюзорный фотокадр, рисуя его с помощью литографского карандаша,27 своеобразно "переплавляя" киноматериал в выразительную и яркую графическую систему. Практически отказавшись в своих плакатах от последовательного рассказа, Стенберги всегда стремились в конструируемой ими системе плоскостей и объемов, изобразительных метафор и ассоциаций, передать прежде всего движение, динамику, ритм, которые отличали своеобразие эпохи 1920-х гг. с её характерным призывом "Время, вперед!".
Рядом со Стенбергами успешно работали в киноплакате их соратники по ОБМОХУ — Наумов, Прусаков, Жуков, а также Руклевский, Длугач, Герасимович. Они принадлежали к самым разным художественным группировкам тех лет, эстетические установки которых не могли не сказаться на их листах. Например, участники Общества московских художников (ОМХ), разделявшие теорию "производственного искусства" и культивировавшие идеи "рекламности", много внимания уделяли проблемам цвета и фактуры. Это нашло отражение в плакатах Наумова, в которых часто использован "прием растра", в острых "трюковых" плакатах Прусакова и Жукова, которые живо интересовались техническими новинками и часто использовали стилистику чертежной графики. А члены Ассоциации художников революционной России (АХРР), выступавшие за реалистическое искусство, — Руклевский и Длугач стремились прежде всего передать сюжетную основу фильма, комбинируя на листе из рисованных фигур героев эффектные мизансцены.
Киноплакат 1920-х гг. отличался не только наибольшим многообразием художественно-стилистических установок, он количественно "забил все ответвления плаката", как свидетельствовали современники.28 Это объяснялось особым отношением к кинематографу, в котором конструктивисты видели самую передовую форму "индустриального искусства", а советские руководители самое "важнейшее" из искусств в деле просвещения масс. Также сказывалась и активность кинорынка, на котором были широко представлены как русские, так и иностранные фильмы. Однако в связи с западной кинопродукцией перед художниками уже на Второй выставке киноплаката 1926 г. была поставлена серьезная идеологическая задача — "не просто рекламировать фильму… но и …создавать в зрителе определенную, советскую на нее установку".29